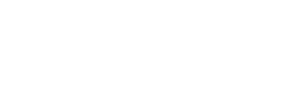Черную гладь воды искусственного заливчика цветными полосами расчерчивали отражения прожекторов грузового порта. Сведенные желтыми лучами в периметр карго-жизни, эти эрзац-солнца, рукотворного масштаба, абсолютно не освещали другую сторону микро-гавани, где на прохладном бетонном парапете сидела, подвернув ноги на восточный манер, хрупкая девушка и её спутник, такого же худощавого телосложения. Тишину, плавающую в густом, влажном воздухе разбавлял звон стекла — прибойная волна поймала в свои объятия бутылку, и раз, за разом накатывая её на край набережной, выдавала ритм, удивительно похожий на аритмичный стук стеклянного сердца о каменные ребра.
— Смотри. — Трудно определить, кому принадлежит голос — вязкая атмосфера июньской ночи искажает звуки, но по указующему сторону взгляда кивку головы, становится ясно, что говорит парень.
Он указывает на противоположный берег, где слепо мечется бело-голубоватый свет галогенного фонарика.
Минуты ползут караваном, сквозь таможенный пункт часов, 2 пары глаз, с одинаково широкими зрачками наблюдают за лучом, в эпилептическом припадке обшаривающем берег, рябь воды, небо…
Позвякивания бутылочной мышцы, тонкий звон крылатых детей Каина, шелест ветра в верхушках деревьев.
— Зомби проходят позади нас. — На этот раз тишину нарушает девушка. Молчание парня приобретает вопросительную окраску.
— Смотри. — Кажется, этим двоим, вообще, слабо нужны вербальные коммуникации. Они оборачиваются, и я вижу белки их глаз.
Опять наблюдают, за редкими, безмолвными тенями. Те, развинченной походкой сломанных роботов медленно скользят по аллее, и, сворачивая на одно и то же ответвление дорожки, исчезают в зоне полного отсутствия света, недалеко от меня. Ловлю их взгляды, по очереди, и прогоняю мысль, что они могут увидеть, что есть я. Есть тут. Руки неосознанно крутят гладкий шарик, с небольшой, утопленной кнопкой на условном полюсе. Я подобрал его там, где все еще вертится фонарик, со своим невидимым обладателем.
— А этот товарищ, с фонариком все никак не уймется. Что он там потерял?
— Это хранитель рассвета. А потерял он кнопку восхода солнца.
— Хм. Тогда в тридцати метрах от нас портал, в иное измерение, куда зомби уходят жить.
— А мы, как всегда, проебываем возможности… — два коротких смешка, и молчание возвращается, вклиниваясь между ними.
А я вздрагиваю, всем своим слегка подгнившим телом, глядя на темно-зеленую, лениво волнующуюся муть, заполняющую дыру в асфальте, мельком думаю про ту жизнь, что ждет меня за ней, и обращаю внимание на шарик, в моих руках - так вот что это за штука…
Однако, не стоит больше здесь оставаться — пусть любопытно, но как-то неуютно — если доступны кадавру эти чувства. Широко размахнувшись, зашвыриваю пульт далеко на противоположный берег, и шагаю в мутную зелень перехода.
— Смотри. — Трудно определить, кому принадлежит голос — вязкая атмосфера июньской ночи искажает звуки, но по указующему сторону взгляда кивку головы, становится ясно, что говорит парень.
Он указывает на противоположный берег, где слепо мечется бело-голубоватый свет галогенного фонарика.
Минуты ползут караваном, сквозь таможенный пункт часов, 2 пары глаз, с одинаково широкими зрачками наблюдают за лучом, в эпилептическом припадке обшаривающем берег, рябь воды, небо…
Позвякивания бутылочной мышцы, тонкий звон крылатых детей Каина, шелест ветра в верхушках деревьев.
— Зомби проходят позади нас. — На этот раз тишину нарушает девушка. Молчание парня приобретает вопросительную окраску.
— Смотри. — Кажется, этим двоим, вообще, слабо нужны вербальные коммуникации. Они оборачиваются, и я вижу белки их глаз.
Опять наблюдают, за редкими, безмолвными тенями. Те, развинченной походкой сломанных роботов медленно скользят по аллее, и, сворачивая на одно и то же ответвление дорожки, исчезают в зоне полного отсутствия света, недалеко от меня. Ловлю их взгляды, по очереди, и прогоняю мысль, что они могут увидеть, что есть я. Есть тут. Руки неосознанно крутят гладкий шарик, с небольшой, утопленной кнопкой на условном полюсе. Я подобрал его там, где все еще вертится фонарик, со своим невидимым обладателем.
— А этот товарищ, с фонариком все никак не уймется. Что он там потерял?
— Это хранитель рассвета. А потерял он кнопку восхода солнца.
— Хм. Тогда в тридцати метрах от нас портал, в иное измерение, куда зомби уходят жить.
— А мы, как всегда, проебываем возможности… — два коротких смешка, и молчание возвращается, вклиниваясь между ними.
А я вздрагиваю, всем своим слегка подгнившим телом, глядя на темно-зеленую, лениво волнующуюся муть, заполняющую дыру в асфальте, мельком думаю про ту жизнь, что ждет меня за ней, и обращаю внимание на шарик, в моих руках - так вот что это за штука…
Однако, не стоит больше здесь оставаться — пусть любопытно, но как-то неуютно — если доступны кадавру эти чувства. Широко размахнувшись, зашвыриваю пульт далеко на противоположный берег, и шагаю в мутную зелень перехода.
Баба Зина кряхтела в сортире третий час подряд. Дичайший
понос разрывал ее дряхлый анус могучей струей, выплескиваясь на загаженный, уже
до самой крышки унитаз.
— Выходи уже, шлюха
старая! Детям в школу надо! — надрывается за дверью невестка Галина.
Баба Зина наскоро подтерлась, изведя полрулона бумаги, и не
трудясь смыть, выползла в коридор.
— А воняешь-то, как
будто сдохла уже! — вопит Галя в спину.
Сын — муж Гали, и дочь — младшая: курят на кухне.
— Сволочи, дымите всё
своей отравой, — бухтит Зинаида, наливая воду в помятый чайник.
— Да не ворчи, мать — по-утреннему лениво
возражает Алеша, затягиваясь неровно прогорающей сигаретой — отец, вон, всю
жизнь дымил… пока не умер — короткий смешок.
— А ты отца не трожь!
— моментально, в отличие от чайника, закипает Зинаида. — Он хоть хорошим
человеком был, в кого ты такой оболтус — не знаю!
Старая карга врет. Прекрасно знает — в кого: в молодого,
бесшабашного парня, который так душевно пел, под расстроенную гитару на пляже
Геленджика, где Зина отдыхала по профсоюзной путевке, пока её муж — Саша,
оставался в родном городе, плачась и ругая начальника, план, Союз и генсека — особым
прицепом.
«Тоже еще, план, ага» — мысленно теребит застарелое
самооправдание Зина — «небось, сам тут блядовал, алкаш старый». Мужа она, впрочем,
любила, да только кто же хочет признавать себя виноватым?
Чайник, наконец, закипел; сигареты детей дотлели. Внук и
внучка под конвоем невестки отправились в школу, Лешка — в свой офис, а Ленка —
«распиздяйка» — очередной мысленный выпад — в их, с матерью комнату.
Утро — единственное время за сутки, когда Зина могла побыть
наедине с собой. Галина скоро вернется — она работает на дому — и начнется новый
колхозный день.
«Серпентарий» — иронизировала баба Зина, над тремя
озлобленными тетками, затрамбованными в клетку двухкомнатной квартиры. «Потом
ублюдки мелкие с уроков придут… охохо, грехи наши тяжкие» — внуков Зина не
любила, считая их приблудными бастардами. «Нагуляла, блядь» — вела свой
бесконечный обличающий монолог дряхлая развалина.
Впрочем, время еще было, и Зина предалась утреннему чаепитию.
Заваренный в 4-й раз чай на вкус напоминал помои с сахаром, «но оно и привычно».
На кухню как-то очень плавно втекла Лена: «Мамуля» — голосом
её можно было касторку запивать, сахар из него так и тек.
«С чего это «мамуля», а не сука старая?» — Зинаида
насторожилась.
— Мамуля, мы тут с
Лешей подумали. Смотри — я с тобой в комнате живу, они с Галькой, и
племянниками в зале. Тесновато, не находишь?
— В могиле теснее — парировала
Зина. — Не тяни кота за хвост, говори, что хотела?
— Мамуля, может ты в
дом престарелых переедешь? А мы тут сами, как-нибудь?
Котелок у Зины мгновенно заполнился паром, вышиб напором
крышку, и обрушился на дочь струей закипевшего говна. Суть выданного матерью
монолога, вкратце, сводилась к несовершенству мира, подлости людей, и очень
грязно-физиологичному описанию Елены, как личности. Спустив давление до чуть
меньшего, чем требовалось для инфаркта, Зинаида замолчала, глядя на дочь, как
бык на матадора.
— Ладно-ладно, мам,
не кипятись! Я же только предложила. Не хочешь — не надо.
— Вот именно — не
хочу. — Отрезала Зина — квартира на меня записана, хрен у вас что выгорит,
комбинаторы ёбаные. — И демонстративно отвернулась, показывая, что разговор
окончен.
Лена примирительно подняла ладонь, и, прикрыв ей чашку,
кошачьим движением, в полсекунды, что-то бросила в мутную, коричневатую
жидкость.
Дочь удалилась, оставив запах духов смешиваться с запахом
дешевого табака, а Зина, успокаиваясь, глотнула чаю. Неспешно опорожнила
кружку, вынула изо рта размокший кусочек бумаги: «ну что за дрянь-время? Даже в
чае мусор какой-то. Тьфу. Ладно бы опилки, как в том… со слоном». Посидела, в
задумчивости, встала. Помыла вчерашнюю кастрюлю, и только собралась приступить
к готовке новой порции щей на всю ораву домочадцев, как до слуха, не по
старчески острого, донесся обрывок фразы: «…буйная! Мне страшно!» — дальше
голос дочери приглушился до неразличимого порога. «С кем это она? Ай, да и черт
с ней. Небось, опять с подругами про сериалы трындит, только телефон занимает» —
подумала Зина, рассматривая цветочный рисунок на кастрюльке. «Странно как.
Сколько лет эта кастрюля у нас, а только заметила — цвета-то какие яркие… и
глубокие, аж кажется, что цветочки под ветром шевелятся — были же люди в Союзе:
даже по кастрюлям рисовали так, что любо-дорого. Засмотришься». Оторвав,
наконец, взгляд от рисунка, Зинаида взглянула на стену, которую на прошлой
неделе внуки изрисовали «Испоганили!» фломастерами. И вскрикнула, от
неожиданности: фиолетовая лошадь, коряво нарисованная детской рукой, явно
шевелила хвостом, ногами, и улыбалась странной, понимающей улыбкой, проникая
глазами точечками, казалось, в самую глубь отсутствующей Зининой,
коммунистически-атеистической души! Нарисованная рядом птица, ярко-красного цвета,
полыхнула желтыми глазами, раскрыла клюв и произнесла что-то похожее на обрывок
«Патер Ностер». «Что за…?! Почему она говорит?! А почему бы не сказать ей
что-нибудь в ответ?»
Желтая скорая помощь не ехала долго. Когда щуплый коновал, в
сопровождении пары кубических санитаров вошли в тесную прихожую, Зинаида сидела
на кухонном полу, и то, дико смеясь, то начиная истерически всхлипывать,
размахивала ножом, выдавая неразборчивые сентенции, описывающие, судя по всему,
картины теоретического ребенка Дали и Босха.
Когда бабку скрутили, ровно до возможности шевелить только
пальцами на ногах, и вывели из квартиры, предварительно сунув Лене на подпись
какой-то документ, который та подмахнула не читая, подхихикивающая дочь достала
бумажку, копию той, что Зина выудила из чашки, сунула под язык, и, набрав номер
брата, произнесла в трубку: «Готово. Уехала. Еще пару добчинских ей с
передачками занести, и хата наша. Поверенного знаешь?… ну вот и классно».
Лена повесила трубку, и тонко улыбнувшись, плюхнулась на
кровать, в комнате, теперь принадлежащей только ей.
Это опять я - Сёма.
Был, значится, в кащенке недавно.
А там дед. Но собака не сидела. А дед был. И говорил он что если много смеяться, то станешь шизофреником. И если руками много махать - тоже станешь. А уж если жирную бабу жирной назовешь - всенепременнейше тут же шизофреником и станешь. И всё подзуживал психиатру сказать, что она жирная. А она и не жирная вовсе, а очень даже худая.
Тогда дед меня в туалет отвел и горсть таблеток насыпал. Выпей, говорит, сразу увидишь, какая она жирная. Это ж она маскируется под нормальную, а на самом деле - бомбовоз и салозавр.
Ну я и выпил. Жалко мне, что ли?
Смотрю - а она и правда толстая! Прав был дед. Ну я ей вежливым таким манером и заявляю: "Мадам, вы жирная". Вот так я и стал шизофреником. Опять дед прав оказался.
Сидел ночью и в монитор смотрел.
А за окном - крики, грохот, стук кулаков по лицам и вовсе не интеллигентный мат.
Выглядываю - всё точно - жидов бьют. Хотел было помочь, а потом смотрю - а бьют-то их негры!
Тут меня обида взяла: как это, наших жидов - и негры?! Непорядок. Стал в милицию звонить, а мне из трубки и говорят: "Сёмочка, опять ты таблеточку скушать забыл".
А я ничего не забыл! Я её только что съел. и даже не одну, а 15. И все разные. И вы думаете, мон шер, что так полечившись я на улице драку жидов с неграми увижу? Плохо вы обо мне, мон шер, думаете. А я буду дальше в милицию звонить.
Взял я свою личность, значит, и давай ее с поленом ассоциировать. Ассоциировал, ассоциировал и заассоциировал, наконец. И стал тогда думать, а что же мне теперь с личностью-поленом делать?
Придумал я, тогда топор по-больше, да как хряпну им по полену-личности!
Личность-то и разлетелась на две половинки — одна с сучком, вторая — с дыркой от сучка.
Посмотрел я на них, и стал их с мужчиной и женщиной ассоциировать. А как только получилось у меня это — тут же их в охапку схватил, расчленил и в коробку упаковал. В черепную.
и живут они теперь там, все перемешанные, кровью измазанные, на части разделенные: но живут. И думают по очереди, и со мной спорить норовят. Тогда я им грожу, что снова в поленья превращу, и они молчат. Но не долго.
Был, значится, в кащенке недавно.
А там дед. Но собака не сидела. А дед был. И говорил он что если много смеяться, то станешь шизофреником. И если руками много махать - тоже станешь. А уж если жирную бабу жирной назовешь - всенепременнейше тут же шизофреником и станешь. И всё подзуживал психиатру сказать, что она жирная. А она и не жирная вовсе, а очень даже худая.
Тогда дед меня в туалет отвел и горсть таблеток насыпал. Выпей, говорит, сразу увидишь, какая она жирная. Это ж она маскируется под нормальную, а на самом деле - бомбовоз и салозавр.
Ну я и выпил. Жалко мне, что ли?
Смотрю - а она и правда толстая! Прав был дед. Ну я ей вежливым таким манером и заявляю: "Мадам, вы жирная". Вот так я и стал шизофреником. Опять дед прав оказался.
Сидел ночью и в монитор смотрел.
А за окном - крики, грохот, стук кулаков по лицам и вовсе не интеллигентный мат.
Выглядываю - всё точно - жидов бьют. Хотел было помочь, а потом смотрю - а бьют-то их негры!
Тут меня обида взяла: как это, наших жидов - и негры?! Непорядок. Стал в милицию звонить, а мне из трубки и говорят: "Сёмочка, опять ты таблеточку скушать забыл".
А я ничего не забыл! Я её только что съел. и даже не одну, а 15. И все разные. И вы думаете, мон шер, что так полечившись я на улице драку жидов с неграми увижу? Плохо вы обо мне, мон шер, думаете. А я буду дальше в милицию звонить.
Взял я свою личность, значит, и давай ее с поленом ассоциировать. Ассоциировал, ассоциировал и заассоциировал, наконец. И стал тогда думать, а что же мне теперь с личностью-поленом делать?
Придумал я, тогда топор по-больше, да как хряпну им по полену-личности!
Личность-то и разлетелась на две половинки — одна с сучком, вторая — с дыркой от сучка.
Посмотрел я на них, и стал их с мужчиной и женщиной ассоциировать. А как только получилось у меня это — тут же их в охапку схватил, расчленил и в коробку упаковал. В черепную.
и живут они теперь там, все перемешанные, кровью измазанные, на части разделенные: но живут. И думают по очереди, и со мной спорить норовят. Тогда я им грожу, что снова в поленья превращу, и они молчат. Но не долго.
Три обезьянки сидят на моем столе и век от века занимаются тем же, чем и их копии, тысячи лет до меня и неизмеримо дольше, после того, как мое тело сгниет в могиле - одна прикрыла глаза, вторая уши, а третья рот. Эти буддистские символы отречения от зла призывают своих последователей не слышать, не видеть и не изрекать ничего, что может быть расценено злом.
И хоть китайский скульптор, дядя Ляо, изобразил всех трех истуканчиков однояйцевыми обезьяньими близнецами, самой мудрой оказалась третья обезьянка. Она заткнула свою пасть не только от вкусных бананов, но и от того, что бы высрать этой самой пастью поток зла, чем бы оно ни было. Кстати, пожалуй, в современном обществе (читай, в интернетах), этого примата следовало бы изображать с переломанными пальцами, или с разбитой клавиатурой, на худой конец. Но это частности.
А что две первых мартышки? А они как старый холостяк - "если на бардак не обращать внимания, то его как бы и нет." Эти шерстяные жуебки отгородили свои органы ВОСПРИЯТИЯ от внешних раздражителей. Они не услышат криков изнасилованной девчонки, и не увидят дерьма под своей ногой. А дерьмо, вот же сука, никуда и не исчезло! Потому что четвертая обезьянка, преданная в свое время анафеме, отказалась заткнуть свою задницу, что бы не извергать зло еще одним отверстием. И теперь мстит своим более успешным братьям, бросая на пути у слепой банановые шкурки и трахая, за спиной у глухой, старушек.
Если бы тупорылые братцы пораскинули своими недоэволюционировавшими мозгами, и дошли до собственного осознания концепции зла, вместо того что бы наглухо уходить в отказняк, им было бы гораздо проще выдать этой четвертой макаке пинка волосатой лапой под красную жопу. Капишь, мой маленький мохнатый друг? Пока ты вступаешь в обезьянье дерьмо, при каждом шаге, кто-то прозревший, добрым словом и пистолетом, спасибо полковнику Кольту, насаждает девятиграммовыми кусками свинца добро и справедливость.
Кстати, не вижу в этом триптихе еще парочку приматов. Того, который не пробует зло на вкус, и к злу не прикасается, что бы не дай Сиддхартха Гаутама, его не осязать! Но тут уж, скорее, заслуга того, что сложно передать эти чувства скульптурно. Так что макаки получили бессрочный отпуск, со строгими указаниями: одной - висеть в вакууме, а другой - не жрать ничего, на чем нету ярлыка, с надписью "Добро, 1 килограмм."
И хоть китайский скульптор, дядя Ляо, изобразил всех трех истуканчиков однояйцевыми обезьяньими близнецами, самой мудрой оказалась третья обезьянка. Она заткнула свою пасть не только от вкусных бананов, но и от того, что бы высрать этой самой пастью поток зла, чем бы оно ни было. Кстати, пожалуй, в современном обществе (читай, в интернетах), этого примата следовало бы изображать с переломанными пальцами, или с разбитой клавиатурой, на худой конец. Но это частности.
А что две первых мартышки? А они как старый холостяк - "если на бардак не обращать внимания, то его как бы и нет." Эти шерстяные жуебки отгородили свои органы ВОСПРИЯТИЯ от внешних раздражителей. Они не услышат криков изнасилованной девчонки, и не увидят дерьма под своей ногой. А дерьмо, вот же сука, никуда и не исчезло! Потому что четвертая обезьянка, преданная в свое время анафеме, отказалась заткнуть свою задницу, что бы не извергать зло еще одним отверстием. И теперь мстит своим более успешным братьям, бросая на пути у слепой банановые шкурки и трахая, за спиной у глухой, старушек.
Если бы тупорылые братцы пораскинули своими недоэволюционировавшими мозгами, и дошли до собственного осознания концепции зла, вместо того что бы наглухо уходить в отказняк, им было бы гораздо проще выдать этой четвертой макаке пинка волосатой лапой под красную жопу. Капишь, мой маленький мохнатый друг? Пока ты вступаешь в обезьянье дерьмо, при каждом шаге, кто-то прозревший, добрым словом и пистолетом, спасибо полковнику Кольту, насаждает девятиграммовыми кусками свинца добро и справедливость.
Кстати, не вижу в этом триптихе еще парочку приматов. Того, который не пробует зло на вкус, и к злу не прикасается, что бы не дай Сиддхартха Гаутама, его не осязать! Но тут уж, скорее, заслуга того, что сложно передать эти чувства скульптурно. Так что макаки получили бессрочный отпуск, со строгими указаниями: одной - висеть в вакууме, а другой - не жрать ничего, на чем нету ярлыка, с надписью "Добро, 1 килограмм."
Моя трубка - bud bomb. Девайс для ценителей. Когда я впервые увидела эту охуенную, стальную болванку, для вышибания мозгов, мне адово захотелось ее заполучить.
Эстет внутри меня вопил от радости, когда в руках оказалась тяжелая посылка.
Увесистая - граммов 150 - трубка, покрытая хромом и просто созданная для того, что бы как следует пыхнуть.
Сейчас она у меня уже 4 года. И на полке лежать, в качестве экспоната, ей не приходится.
Вот какой она ко мне попало (фото из интернет-магаина).
Эстет внутри меня вопил от радости, когда в руках оказалась тяжелая посылка.
Увесистая - граммов 150 - трубка, покрытая хромом и просто созданная для того, что бы как следует пыхнуть.
Сейчас она у меня уже 4 года. И на полке лежать, в качестве экспоната, ей не приходится.
Вот какой она ко мне попало (фото из интернет-магаина).
Ненавижу такие состояния. Не пишется, не спится, даже - экскьюз муа - не срется. Остается только читать или смотреть. Впрочем, в такие моменты даже эти простые как print: "Hello World" занятия идут со скрипом. Хорошо что-нибудь вязкое, тошнотворное и мерзкое. Грайндхаус, нуар, описания преступлений. И так не богатое на чувства нутро полностью лишается реакций на внешние раздражители. Как в омут головой ныряешь в душные, липкие описания и сцены убийств, изнасилований, пыток и психологической жестокости.
Кофе лишается вкуса и запаха. Никотин, на пару с бессонницей страйками выбивают мозговые клетки, нервы истощены и затуплены. Воткни в руку иглу - только поморщишься. На яву проявляются кошмары из снов. Но пугают они не больше чем реальность, заполненная липким ощущением неотвратимо надвигающегося психоза. Пробую думать о смерти. Возвышенная философия не взлетает во влажном, густом воздухе осенней ночи. Проявляется только приземленное до уровня моря понимание процессов умирания и трупных явлений. Переношу мысли на конкретику. Смерть отца, матери: Абсолютное Безразличие. И саркастичный, от осознания этого смешок. Смерть друзей. Чуть хуже, но широченный зевок давлением воздуха вышибает зачатки эмоций и опять Абсолютное Безразличие. Все там будем. Ну и что?
Кофе лишается вкуса и запаха. Никотин, на пару с бессонницей страйками выбивают мозговые клетки, нервы истощены и затуплены. Воткни в руку иглу - только поморщишься. На яву проявляются кошмары из снов. Но пугают они не больше чем реальность, заполненная липким ощущением неотвратимо надвигающегося психоза. Пробую думать о смерти. Возвышенная философия не взлетает во влажном, густом воздухе осенней ночи. Проявляется только приземленное до уровня моря понимание процессов умирания и трупных явлений. Переношу мысли на конкретику. Смерть отца, матери: Абсолютное Безразличие. И саркастичный, от осознания этого смешок. Смерть друзей. Чуть хуже, но широченный зевок давлением воздуха вышибает зачатки эмоций и опять Абсолютное Безразличие. Все там будем. Ну и что?
Подписаться на:
Сообщения (Atom)