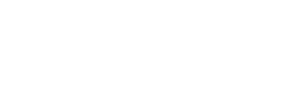Баба Зина кряхтела в сортире третий час подряд. Дичайший
понос разрывал ее дряхлый анус могучей струей, выплескиваясь на загаженный, уже
до самой крышки унитаз.
— Выходи уже, шлюха
старая! Детям в школу надо! — надрывается за дверью невестка Галина.
Баба Зина наскоро подтерлась, изведя полрулона бумаги, и не
трудясь смыть, выползла в коридор.
— А воняешь-то, как
будто сдохла уже! — вопит Галя в спину.
Сын — муж Гали, и дочь — младшая: курят на кухне.
— Сволочи, дымите всё
своей отравой, — бухтит Зинаида, наливая воду в помятый чайник.
— Да не ворчи, мать — по-утреннему лениво
возражает Алеша, затягиваясь неровно прогорающей сигаретой — отец, вон, всю
жизнь дымил… пока не умер — короткий смешок.
— А ты отца не трожь!
— моментально, в отличие от чайника, закипает Зинаида. — Он хоть хорошим
человеком был, в кого ты такой оболтус — не знаю!
Старая карга врет. Прекрасно знает — в кого: в молодого,
бесшабашного парня, который так душевно пел, под расстроенную гитару на пляже
Геленджика, где Зина отдыхала по профсоюзной путевке, пока её муж — Саша,
оставался в родном городе, плачась и ругая начальника, план, Союз и генсека — особым
прицепом.
«Тоже еще, план, ага» — мысленно теребит застарелое
самооправдание Зина — «небось, сам тут блядовал, алкаш старый». Мужа она, впрочем,
любила, да только кто же хочет признавать себя виноватым?
Чайник, наконец, закипел; сигареты детей дотлели. Внук и
внучка под конвоем невестки отправились в школу, Лешка — в свой офис, а Ленка —
«распиздяйка» — очередной мысленный выпад — в их, с матерью комнату.
Утро — единственное время за сутки, когда Зина могла побыть
наедине с собой. Галина скоро вернется — она работает на дому — и начнется новый
колхозный день.
«Серпентарий» — иронизировала баба Зина, над тремя
озлобленными тетками, затрамбованными в клетку двухкомнатной квартиры. «Потом
ублюдки мелкие с уроков придут… охохо, грехи наши тяжкие» — внуков Зина не
любила, считая их приблудными бастардами. «Нагуляла, блядь» — вела свой
бесконечный обличающий монолог дряхлая развалина.
Впрочем, время еще было, и Зина предалась утреннему чаепитию.
Заваренный в 4-й раз чай на вкус напоминал помои с сахаром, «но оно и привычно».
На кухню как-то очень плавно втекла Лена: «Мамуля» — голосом
её можно было касторку запивать, сахар из него так и тек.
«С чего это «мамуля», а не сука старая?» — Зинаида
насторожилась.
— Мамуля, мы тут с
Лешей подумали. Смотри — я с тобой в комнате живу, они с Галькой, и
племянниками в зале. Тесновато, не находишь?
— В могиле теснее — парировала
Зина. — Не тяни кота за хвост, говори, что хотела?
— Мамуля, может ты в
дом престарелых переедешь? А мы тут сами, как-нибудь?
Котелок у Зины мгновенно заполнился паром, вышиб напором
крышку, и обрушился на дочь струей закипевшего говна. Суть выданного матерью
монолога, вкратце, сводилась к несовершенству мира, подлости людей, и очень
грязно-физиологичному описанию Елены, как личности. Спустив давление до чуть
меньшего, чем требовалось для инфаркта, Зинаида замолчала, глядя на дочь, как
бык на матадора.
— Ладно-ладно, мам,
не кипятись! Я же только предложила. Не хочешь — не надо.
— Вот именно — не
хочу. — Отрезала Зина — квартира на меня записана, хрен у вас что выгорит,
комбинаторы ёбаные. — И демонстративно отвернулась, показывая, что разговор
окончен.
Лена примирительно подняла ладонь, и, прикрыв ей чашку,
кошачьим движением, в полсекунды, что-то бросила в мутную, коричневатую
жидкость.
Дочь удалилась, оставив запах духов смешиваться с запахом
дешевого табака, а Зина, успокаиваясь, глотнула чаю. Неспешно опорожнила
кружку, вынула изо рта размокший кусочек бумаги: «ну что за дрянь-время? Даже в
чае мусор какой-то. Тьфу. Ладно бы опилки, как в том… со слоном». Посидела, в
задумчивости, встала. Помыла вчерашнюю кастрюлю, и только собралась приступить
к готовке новой порции щей на всю ораву домочадцев, как до слуха, не по
старчески острого, донесся обрывок фразы: «…буйная! Мне страшно!» — дальше
голос дочери приглушился до неразличимого порога. «С кем это она? Ай, да и черт
с ней. Небось, опять с подругами про сериалы трындит, только телефон занимает» —
подумала Зина, рассматривая цветочный рисунок на кастрюльке. «Странно как.
Сколько лет эта кастрюля у нас, а только заметила — цвета-то какие яркие… и
глубокие, аж кажется, что цветочки под ветром шевелятся — были же люди в Союзе:
даже по кастрюлям рисовали так, что любо-дорого. Засмотришься». Оторвав,
наконец, взгляд от рисунка, Зинаида взглянула на стену, которую на прошлой
неделе внуки изрисовали «Испоганили!» фломастерами. И вскрикнула, от
неожиданности: фиолетовая лошадь, коряво нарисованная детской рукой, явно
шевелила хвостом, ногами, и улыбалась странной, понимающей улыбкой, проникая
глазами точечками, казалось, в самую глубь отсутствующей Зининой,
коммунистически-атеистической души! Нарисованная рядом птица, ярко-красного цвета,
полыхнула желтыми глазами, раскрыла клюв и произнесла что-то похожее на обрывок
«Патер Ностер». «Что за…?! Почему она говорит?! А почему бы не сказать ей
что-нибудь в ответ?»
Желтая скорая помощь не ехала долго. Когда щуплый коновал, в
сопровождении пары кубических санитаров вошли в тесную прихожую, Зинаида сидела
на кухонном полу, и то, дико смеясь, то начиная истерически всхлипывать,
размахивала ножом, выдавая неразборчивые сентенции, описывающие, судя по всему,
картины теоретического ребенка Дали и Босха.
Когда бабку скрутили, ровно до возможности шевелить только
пальцами на ногах, и вывели из квартиры, предварительно сунув Лене на подпись
какой-то документ, который та подмахнула не читая, подхихикивающая дочь достала
бумажку, копию той, что Зина выудила из чашки, сунула под язык, и, набрав номер
брата, произнесла в трубку: «Готово. Уехала. Еще пару добчинских ей с
передачками занести, и хата наша. Поверенного знаешь?… ну вот и классно».
Лена повесила трубку, и тонко улыбнувшись, плюхнулась на
кровать, в комнате, теперь принадлежащей только ей.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)